Иосиф Бродский — Вертумн
Памяти Джанни Буттафавы
I
Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах.
Нога твоя там не ступала; но слава твоя достигла
мест, где плоды обычно делаются из глины.
По колено в снегу, ты возвышался, белый,
больше того — нагой, в компании одноногих,
тоже голых деревьев, в качестве специалиста
по низким температурам. ‘Римское божество’ —
гласила выцветшая табличка,
и для меня ты был богом, поскольку ты знал о прошлом
больше, нежели я (будущее меня
в те годы мало интересовало).
С другой стороны, кудрявый и толстощекий,
ты казался ровесником. И хотя ты не понимал
ни слова на местном наречьи, мы как-то разговорились.
Болтал поначалу я; что-то насчет Помоны,
петляющих наших рек, капризной погоды, денег,
отсутствия овощей, чехарды с временами
года — насчет вещей, я думал, тебе доступных
если не по существу, то по общему тону
жалобы. Мало-помалу (жалоба — универсальный
праязык; вначале, наверно, было
‘ой’ или ‘ай’) ты принялся отзываться:
щуриться, морщить лоб; нижняя часть лица
как бы оттаяла, и губы зашевелились.
‘Вертумн’, — наконец ты выдавил. ‘Меня зовут Вертумном’.
II
Это был зимний, серый, вернее — бесцветный день.
Конечности, плечи, торс, по мере того как мы
переходили от темы к теме,
медленно розовели и покрывались тканью:
шляпа, рубашка, брюки, пиджак, пальто
темно-зеленого цвета, туфли от Балансиаги.
Снаружи тоже теплело, и ты порой, замерев,
вслушивался с напряжением в шелест парка,
переворачивая изредка клейкий лист
в поисках точного слова, точного выраженья.
Во всяком случае, если не ошибаюсь,
к моменту, когда я, изрядно воодушевившись,
витийствовал об истории, войнах, неурожае,
скверном правительстве, уже отцвела сирень,
и ты сидел на скамейке, издали напоминая
обычного гражданина, измученного государством;
температура твоя была тридцать шесть и шесть.
‘Пойдем’, — произнес ты, тронув меня за локоть.
‘Пойдем; покажу тебе местность, где я родился и вырос’.
III
Дорога туда, естественно, лежала сквозь облака,
напоминавшие цветом то гипс, то мрамор
настолько, что мне показалось, что ты имел в виду
именно это: размытые очертанья,
хаос, развалины мира. Но это бы означало
будущее — в то время, как ты уже
существовал. Чуть позже, в пустой кофейне
в добела раскаленном солнцем дремлющем городке,
где кто-то, выдумав арку, был не в силах остановиться,
я понял, что заблуждаюсь, услышав твою беседу
с местной старухой. Язык оказался смесью
вечнозеленого шелеста с лепетом вечносиних
волн — и настолько стремительным, что в течение разговора
ты несколько раз превратился у меня на глазах в нее.
‘Кто она?’ — я спросил после, когда мы вышли.
‘Она?’ — ты пожал плечами. ‘Никто. Для тебя — богиня’.
IV
Сделалось чуть прохладней. Навстречу нам стали часто
попадаться прохожие. Некоторые кивали,
другие смотрели в сторону, и виден был только профиль.
Все они были, однако, темноволосы.
У каждого за спиной — безупречная перспектива,
не исключая детей. Что касается стариков,
у них она как бы скручивалась — как раковина у улитки.
Действительно, прошлого всюду было гораздо больше,
чем настоящего. Больше тысячелетий,
чем гладких автомобилей. Люди и изваянья,
по мере их приближенья и удаленья,
не увеличивались и не уменьшались,
давая понять, что они — постоянные величины.
Странно тебя было видеть в естественной обстановке.
Но менее странным был факт, что меня почти
все понимали. Дело, наверно, было
в идеальной акустике, связанной с архитектурой,
либо — в твоем вмешательстве; в склонности вообще
абсолютного слуха к нечленораздельным звукам.
V
‘Не удивляйся: моя специальность — метаморфозы.
На кого я взгляну — становятся тотчас мною.
Тебе это на руку. Все-таки за границей’.
VI
Четверть века спустя, я слышу, Вертумн, твой голос,
произносящий эти слова, и чувствую на себе
пристальный взгляд твоих серых, странных
для южанина глаз. На заднем плане — пальмы,
точно всклокоченные трамонтаной
китайские иероглифы, и кипарисы,
как египетские обелиски.
Полдень; дряхлая балюстрада;
и заляпанный солнцем Ломбардии смертный облик
божества! временный для божества,
но для меня — единственный. С залысинами, с усами
скорее а ла Мопассан, чем Ницше,
с сильно раздавшимся — для вящего камуфляжа —
торсом. С другой стороны, не мне
хвастать диаметром, прикидываться Сатурном,
кокетничать с телескопом. Ничто не проходит даром,
время — особенно. Наши кольца —
скорее кольца деревьев с их перспективой пня,
нежели сельского хоровода
или объятья. Коснуться тебя — коснуться
астрономической суммы клеток,
цена которой всегда — судьба,
но которой лишь нежность — пропорциональна.
VII
И я водворился в мире, в котором твой жест и слово
были непререкаемы. Мимикрия, подражанье
расценивались как лояльность. Я овладел искусством
сливаться с ландшафтом, как с мебелью или шторой
(что сказалось с годами на качестве гардероба).
С уст моих в разговоре стало порой срываться
личное местоимение множественного числа,
и в пальцах проснулась живость боярышника в ограде.
Также я бросил оглядываться. Заслышав сзади топот,
теперь я не вздрагиваю. Лопатками, как сквозняк,
я чувствую, что и за моей спиною
теперь тоже тянется улица, заросшая колоннадой,
что в дальнем ее конце тоже синеют волны
Адриатики. Сумма их, безусловно,
твой подарок, Вертумн. Если угодно — сдача,
мелочь, которой щедрая бесконечность
порой осыпает временное. Отчасти — из суеверья,
отчасти, наверно, поскольку оно одно —
временное — и способно на ощущенье счастья.
VIII
‘В этом смысле таким, как я, —
ты ухмылялся, — от вашего брата польза’.
IX
С годами мне стало казаться, что радость жизни
сделалась для тебя как бы второй натурой.
Я даже начал прикидывать, так ли уж безопасна
радость для божества? не вечностью ли божество
в итоге расплачивается за радость
жизни? Ты только отмахивался. Но никто,
никто, мой Вертумн, так не радовался прозрачной
струе, кирпичу базилики, иглам пиний,
цепкости почерка. Больше, чем мы! Гораздо
больше. Мне даже казалось, будто ты заразился
нашей всеядностью. Действительно: вид с балкона
на просторную площадь, дребезг колоколов,
обтекаемость рыбы, рваное колоратуро
видимой только в профиль птицы,
перерастающие в овацию аплодисменты лавра,
шелест банкнот — оценить могут только те,
кто помнит, что завтра, в лучшем случае — послезавтра
все это кончится. Возможно, как раз у них
бессмертные учатся радости, способности улыбаться.
(Ведь бессмертным чужды подобные опасенья.)
В этом смысле тебе от нашего брата польза.
X
Никто никогда не знал, как ты проводишь ночи.
Это не так уж странно, если учесть твое
происхождение. Как-то за полночь, в центре мира,
я встретил тебя в компании тусклых звезд,
и ты подмигнул мне. Скрытность? Но космос вовсе
не скрытность. Наоборот: в космосе видно все
невооруженным глазом, и спят там без одеяла.
Накал нормальной звезды таков,
что, охлаждаясь, горазд породить алфавит,
растительность, форму времени; просто — нас,
с нашим прошлым, будущим, настоящим
и так далее. Мы — всего лишь
градусники, братья и сестры льда,
а не Бетельгейзе. Ты сделан был из тепла
и оттого — повсеместен. Трудно себе представить
тебя в какой-то отдельной, даже блестящей, точке.
Отсюда — твоя незримость. Боги не оставляют
пятен на простыне, не говоря — потомства,
довольствуясь рукотворным сходством
в каменной нише или в конце аллеи,
будучи счастливы в меньшинстве.
XI
Айсберг вплывает в тропики. Выдохнув дым, верблюд
рекламирует где-то на севере бетонную пирамиду.
Ты тоже, увы, навострился пренебрегать
своими прямыми обязанностями. Четыре времени года
все больше смахивают друг на друга,
смешиваясь, точно в выцветшем портмоне
заядлого путешественника франки, лиры,
марки, кроны, фунты, рубли.
Газеты бормочут ‘эффект теплицы’ и ‘общий рынок’,
но кости ломит что дома, что в койке за рубежом.
Глядишь, разрушается даже бежавшая минным полем
годами предшественница шалопая Кристо.
В итоге — птицы не улетают
вовремя в Африку, типы вроде меня
реже и реже возвращаются восвояси,
квартплата резко подскакивает. Мало того, что нужно
жить, ежемесячно надо еще и платить за это.
‘Чем банальнее климат, — как ты заметил, —
тем будущее быстрей становится настоящим’.
XII
Жарким июльским утром температура тела
падает, чтоб достичь нуля.
Горизонтальная масса в морге
выглядит как сырье садовой
скульптуры. Начиная с разрыва сердца
и кончая окаменелостью. В этот раз
слова не подействуют: мой язык
для тебя уже больше не иностранный,
чтобы прислушиваться. И нельзя
вступить в то же облако дважды. Даже
если ты бог. Тем более, если нет.
XIII
Зимой глобус мысленно сплющивается. Широты
наползают, особенно в сумерках, друг на друга.
Альпы им не препятствуют. Пахнет оледененьем.
Пахнет, я бы добавил, неолитом и палеолитом.
В просторечии — будущим. Ибо оледененье
есть категория будущего, которое есть пора,
когда больше уже никого не любишь,
даже себя. Когда надеваешь вещи
на себя без расчета все это внезапно скинуть
в чьей-нибудь комнате, и когда не можешь
выйти из дому в одной голубой рубашке,
не говоря — нагим. Я многому научился
у тебя, но не этому. В определенном смысле,
в будущем нет никого; в определенном смысле,
в будущем нам никто не дорог.
Конечно, там всюду маячат морены и сталактиты,
точно с потекшим контуром лувры и небоскребы.
Конечно, там кто-то движется: мамонты или
жуки-мутанты из алюминия, некоторые — на лыжах.
Но ты был богом субтропиков с правом надзора над
смешанным лесом и черноземной зоной —
над этой родиной прошлого. В будущем его нет,
и там тебе делать нечего. То-то оно наползает
зимой на отроги Альп, на милые Апеннины,
отхватывая то лужайку с ее цветком, то просто
что-нибудь вечнозеленое: магнолию, ветку лавра;
и не только зимой. Будущее всегда
настает, когда кто-нибудь умирает.
Особенно человек. Тем более — если бог.
XIV
Раскрашенная в цвета’ зари собака
лает в спину прохожего цвета ночи.
XV
В прошлом те, кого любишь, не умирают!
В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу.
В прошлом лацканы у’же; единственные полуботинки
дымятся у батареи, как развалины буги-вуги.
В прошлом стынущая скамейка
напоминает обилием перекладин
обезумевший знак равенства. В прошлом ветер
до сих пор будоражит смесь
латыни с глаголицей в голом парке:
жэ, че, ша, ща плюс икс, игрек, зет,
и ты звонко смеешься: ‘Как говорил ваш вождь,
ничего не знаю лучше абракадабры’.
XVI
Четверть века спустя, похожий на позвоночник
трамвай высекает искру в вечернем небе,
как гражданский салют погасшему навсегда
окну. Один караваджо равняется двум бернини,
оборачиваясь шерстяным кашне
или арией в Опере. Эти метаморфозы,
теперь оставшиеся без присмотра,
продолжаются по инерции. Другие предметы, впрочем,
затвердевают в том качестве, в котором ты их оставил,
отчего они больше не по карману
никому. Демонстрация преданности? Просто склонность
к монументальности? Или это в двери
нагло ломится будущее, и непроданная душа
у нас на глазах приобретает статус
классики, красного дерева, яичка от Фаберже?
Вероятней последнее. Что — тоже метаморфоза
и тоже твоя заслуга. Мне не из чего сплести
венок, чтоб как-то украсить чело твое на исходе
этого чрезвычайно сухого года.
В дурно обставленной, но большой квартире,
как собака, оставшаяся без пастуха,
я опускаюсь на четвереньки
и скребу когтями паркет, точно под ним зарыто —
потому что оттуда идет тепло —
твое теперешнее существованье.
В дальнем конце коридора гремят посудой;
за дверью шуршат подолы и тянет стужей.
‘Вертумн, — я шепчу, прижимаясь к коричневой половице
мокрой щекою, — Вертумн, вернись’.
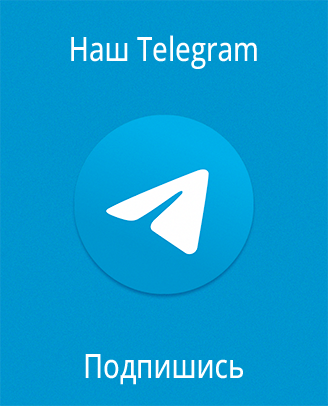
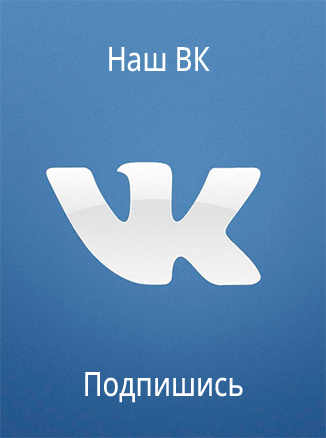
Нет комментариев