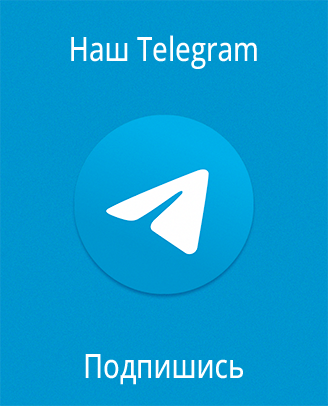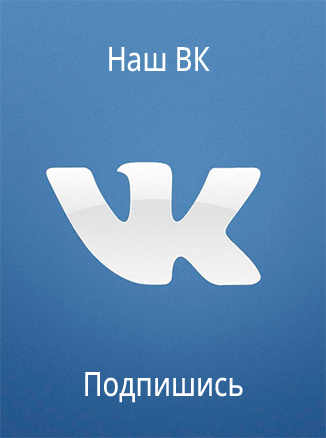Когда ветер стихает и листья пастушьей сумки
еще шуршат по инерции или благодаря
безмятежности — этому свойству зелени —
и глаз задерживается на рисунке
обоев, на цифре календаря,
на облигации, траченной колизеями
ноликов, ты — если ты был прижит
под вопли вихря враждебного, яблочка, ругань кормчего —
различишь в тишине, как перо шуршит,
помогая зеленой траве произнести «всё кончено».
1
Голубой саксонский лес
Снега битого фарфор.
Мир бесцветен, мир белес,
точно извести раствор.
Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты — никто, и я — никто.
Вместе мы — почти пейзаж.
2
Белых склонов тишь да гладь.
Стук в долине молотка.
Склонность гор к подножью дать
может кровли городка.
Горный пик, доступный снам,
фотопленке, свалке туч.
Склонность гор к подножью, к нам,
суть изнанка ихних круч.
В этой маленькой комнате все по-старому:
аквариум с рыбкою — все убранство.
И рыбка плавает, глядя в сторону,
чтоб увеличить себе пространство.
С тех пор, как ты навсегда уехала,
похолодало, и чай не сладок.
Сделавшись мраморным, место около
в сумерках сходит с ума от складок.
Колесо и каблук оставляют в покое улицу,
горделивый платан не меняет позы.
Две половинки карманной луковицы
после восьми могут вызвать слезы.
1
Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства — только изувечим.
Квадраты окон, сколько ни смотри
по сторонам. И в качестве ответа
на ‘Что стряслось’ пустую изнутри
открой жестянку: ‘Видимо, вот это’.
Бобо мертва. Кончается среда.
На улицах, где не найдешь ночлега,
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.