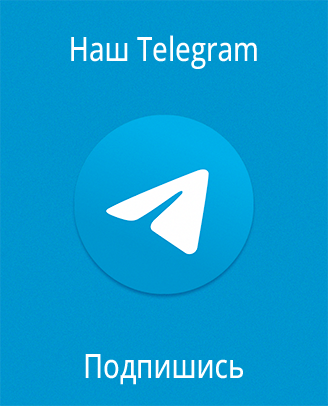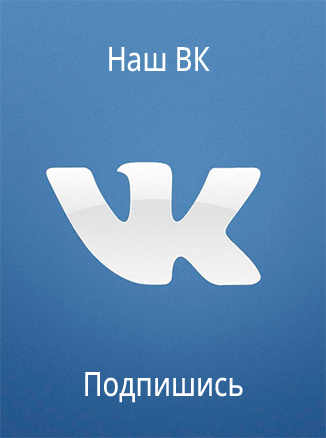Безмолвные свидетели
Вечерних сожалений,
Меня перстом отметили
Собравшиеся тени.
Отвергнуты, обмануты,
Растоптаны, добиты,
Но все вы упомянуты
И все с мечтами слиты.
И слезы — не отчаянье!
И стон — не символ мщенья!
О благостное чаянье
Всемирного прощенья!
(Перезвучия)
Лишь безмятежного мира жаждет душа, наконец,
Взором холодным окину блеск и богатства Офира,
С гордым лицом отодвину, может быть, царский венец.
Жаждет душа без желаний лишь безмятежного мира.
Надо? — из груди я выну прежнее сердце сердец.
Что мне напев ликований, шум беспечального пира,
Что обольщенья лобзаний женских под звоны колец!
Прочь и певучая лира!
Холодная ночь над угрюмою Сеной,
Да месяц, блестящий в раздробленной влаге,
Да труп позабытый, обрызганный пеной.
Здесь слышала стоны и звяканья шпаги
Холодная ночь над угрюмою Сеной,
Смотрела на подвиг любви и отваги.
И месяц, блестящий в раздробленной влаге,
Дрожал, негодуя, пред низкой изменой…
И слышались стоны, и звякали шпаги.
Но труп позабытый, обрызганный пеной,
Безмолвен, недвижен в речном саркофаге.
Прекрасен, светел, венчан, златокрыл,
Цвел гений Греции. Но предстояло
Спаять в одно — халдейские начала
И мысли эллинской священный пыл.
Встал Александр! Все ж Року было мало
Фалангой всюду созданных горнил;
И вот, чтоб Рим весь мир объединил,
Медь грозных легионов застонала.
В те дни, как Азия спешила взять
Дар Запада, и каждый край, как призма,
Лил, преломляя, краски эллинизма,
К завоеванью всей вселенной — рать
Вел Римлянин; при первом триумвире
Он встал, как царь, в торжественной порфире.