Валерий Брюсов — Египетские ночи (обработка и окончание поэмы А. Пушкина)
Поэма в 6-ти главах
1
Прекрасен и беспечен пир
В садах Египетской царицы,
И мнится: весь огромный мир
Вместился в узкие границы.
Там, где квадратный водоем
Мемфисским золотом обложен,
За пышно убранным столом
Круг для веселья отгорожен.
Кого не видно средь гостей?
Вот — Эллин, Римлянин, Испанец,
И сын Египта, и Британец,
Сириец, Индус, Иудей…
На ложах из слоновой кости
Лежат увенчанные гости.
Десятки бронзовых лампад
Багряный день кругом струят;
Беззвучно веют опахала,
Прохладу сладко наводя,
И мальчики скользят, цедя
Вино в хрустальные фиалы;
Порфирных львов лежат ряды,
Чудовищ с птичьей головою,
Из клювов золотых, чредою,
Точа во глубь струю воды.
Музыка стонет сладострастно;
Дары Финикии прекрасной,
Блистают сочные плоды;
А вдалеке, где гуще тени,
На мозаичные ступени
Теснится толпами народ:
Завидуя, из-за ворот
Глядит на смены наслаждении.
Но что веселий праздник смолк?
Затихли флейты, гости немы;
В сверканьи светлой диадемы,
Царица клонит лик на шелк,
И тени сумрачной печали
Ее прозрачный взор застлали.
Зачем печаль ее гнетет?
Чего еще недостает
Египта древнего царице?
В своей блистательной столице
Спокойно властвует она,
И часто пред ее глазами
Пиры сменяются пирами;
Она хвалой упоена,
И величавые искусства
Ей тешат дремлющие чувства.
Горит ли африканский день,
Свежеет ли ночная тень,
Покорны ей земные боги;
Полны чудес ее чертоги;
В златых кадилах вечно там
Сирийский дышит фимиам.
Звучат тимпаны, флейты, лира
Певцов со всех пределов мира.
Чего желать осталось ей?
Весь мир царице угождает:
Сидон ей пурпур высылает;
Град Киликийский — лошадей;
Эллада — мрамор и картины;
Италия — златые вина,
И Балтика — янтарь седой.
Наскучил город ей? — Вдоль Нила,
Поставив пестрые ветрила,
Она в триреме золотой
Плывет. Ее взволнуют страсти?
Пойдет, с сознаньем гордой власти,
В покои тайные дворца,
Где ключ угрюмого скопца
Хранит невольников прекрасных
И юношей стыдливо-страстных.
И все ж она невесела:
Ей скучен хор льстецов наемных
И страсть красавцев подъяремных;
Не сходит тень с ее чела.
Ей все послушно, все доступно,
И лишь любовью неподкупной
Ей насладиться не дано!
И долго, с думою глубокой,
Она сидела одиноко.
И стыло гретое вино.
2
Был снова праздник в пышном зале
Александрийского дворца.
На ложах гости возлежали;
Вокруг, при факелах, блистали
Созданья кисти и резца;
Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир.
Сердца неслись к ее престолу.
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой…
И пышный пир как будто дремлет;
Безмолвны гости; хор молчит;
Но вновь чело она подъемлет
И с видом ясным говорит:
«В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить…
Внемлите мне: могу равенство
Меж вами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю —
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?»
Рекла, — и ужас всех объемлет.
И страстью дрогнули сердца…
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица.
«Я жду, — вещает, — что ж молчите?
Или теперь бежите прочь?
Вас было много, — приступите,
Купите радостную ночь!»
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих…
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других:
Смела их поступь, ясны очи;
Навстречу им она встает.
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.
Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним — Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний — имени векам
Не передал; его ланиты
Пух первый нежно оттенял;
Восторг в очах его снял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом…
И с умилением на нем
Царица взор остановила.
«Клянусь, о матерь наслаждений!
Тебе неслыханно служу:
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грозного Аида!
Клянусь, до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю,
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю!
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь, под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет!»
3
И вот уже сокрылся день,
И блещет месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Окончен пир. Сверкая златом,
Идет царица в свой покой
По беломраморным палатам.
За ней — рабов покорный строй
И круг поклонников смущенных,
Вином и страстью утомленных.
Меж них, спокоен и угрюм,
Безмолвно выступает Флавий,
Речей внимая смутный шум…
Его судьбе и горькой славе
Дивятся гости, трепеща.
У всех, под складками плаща,
Сердца дрожат в глухой тревоге.
Но вот царица, на пороге,
Замедлила, и ясный лик
К смущенным лицам обратила:
В ее глазах — какая сила!
Как нежен стал ее язык!
«Я жду тебя, отважный воин:
Исполнить клятвы пробил час!
Я верю: будешь ты достоин
Обета, сблизившего нас!
Приди ко мне, желанный, смелый!
Я этой жертвы жду давно.
Мое прославленное тело
Тебе богами суждено!
С тобой хочу предаться страсти,
Неотвратимой, как судьба,
Твоей я подчиняюсь власти,
Как неподкупная раба!
Всего, чего возжаждешь, требуй:
Я здесь — для сладостных услуг!
Доколь не пробегут по небу
Лучи зари, ты — мой супруг!»
Сказала: и, простерши руки,
В объятья мужа приняла.
Раздались флейт поющих звуки
И хора стройная хвала.
И гости, сумрачны и бледны,
Боясь понять свою мечту,
Глядят, как полог заповедный
Скрывает новую чету.
И каждый, с трепетом желаний,
Невольно мыслит: «Мог и я…»
Но свисли пурпурные ткани,
Гимена тайны затая.
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам,
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам;
В роскошном золотом покое,
Средь обольстительных чудес,
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое.
Что там? Свежительная мгла
Теперь каким признаньям внемлет,
Какие радости объемлет,
Лаская страстные тела?
Кто скажет! Только водомета
Струя, смеясь, лепечет что-то.
Замолк дворец. Устало спят
Рабы в своих каморках темных;
Безлюдны дали зал огромных;
Лишь сторожа стоят у врат.
В задумчивых аллеях сада —
Молчанье, сумрак и прохлада…
Но кто застыл в беседке роз?
Один, во власти мрачных грез,
Он смотрит на окно царицы,
И будет, молча, ждать денницы,
Прикован взором, недвижим,
Безумной ревностью томим,
Иль плакать вслух, как плачут дети!
Не он ли, хоть на краткий срок,
Царицы грустный взор привлек,
Не он ли вынул жребий третий?
4
Означились огни денницы;
Рабочий пробудился люд;
По узким улицам столицы
Ряды разносчиков снуют.
Глядяся в зеркала морские,
Встречает день Александрия.
Но тих торжественный дворец.
Еще угрюмый страж-скопец
Не отворял глухих затворов;
Еще, на беспощадный зов,
Во сне счастливый — сонм рабов
Не открывал в испуге взоров.
И лишь на ложе золотом
Царица гордая не дремлет,
Небрежно дальним шумам внемлет
И смотрит, с пасмурным челом,
На мужа, кто простерт на ложе.
Ах, не она ль вчера ему,
Всем сладострастьем женской дрожи,
Как властелину своему,
Вливала в жилы страсть? — И что же!
Ах, не она ль, среди затей,
Припоминала вдруг лукаво
События недавних дней
И Цезаря с бессмертной славой:
Как миродержец-исполин
Ее ласкал рукой могучей,
И прибавляла, с лестью жгучей,
Что он, пришлец, ей он один
Напомнил Цезаря? — И что же!
За мигом миг казался строже
Взор гостя странного, и он,
Вином как будто упоен,
Вдруг твердо отстранил царицу:
«Довольно, женщина! Пора
Пред дымом смертного костра
Мне сном приветствовать денницу!»
Он лег, заснул, и вот он спит.
Царица сумрачно глядит
На сон бестрепетно-спокойный,
И грудь ее — в тревоге знойной.
«Проснися, воин! близок день!»
И Флавий открывает очи.
Давно исчезла летней ночи
Прозрачно-голубая тень;
Свет, через пурпурные ткани
Проникнув, бродит на полу,
И светлый дым благоуханий,
Виясь, колеблет полумглу.
«Что, утро? Здравствуй, Феб-губитель!»
И, с ложа прянув, пояс свой
Гость надевает. Но, с мольбой,
К нему царица: «Мой властитель!
Еще есть время. Я — твоя!
Ужель и взгляда я не стою?
Я наслаждения утрою,
Пресыщу новой лаской я
Твои последние мгновенья!
Пади на ложе наслажденья,
Где ждет тебя любовь моя!»
Но странный гость, в ответ, сурово,
Бесстрастье гордое храня:
«Ужель ты думаешь, мне ново —
Все, чем прельщаешь ты меня?
Ты прихотлива и затейна,
Но слаще вольная любовь,
В дубравах, за пределом Рейна!
Ты страстью распаляешь кровь,
Но в ласке девушки испанской,
В объятьях пленницы британской
Есть больше неги и огня!
Во дни жестокие Фарсала,
Я вспомнил, как и ты, ласкала
Одна фракиянка меня;
Но я забыл ее лобзанья,
Ее приманчивый напев,
Храня всегда воспоминанья
О днях блаженного свиданья
С одной из гордых галльских дев!
Прощай!»
Она дрожит от гнева,
Ее изменены черты.
«Когда тебе любая дева
Милей, чем я, зачем же ты
Мой принял вызов? Посмеяться
Ты надо мной хотел? Тебе
Спокойно с жизнью не расстаться!
Твоей мучительной судьбе,
Твоей неумолимой казни
Все ужаснутся!»
Без боязни
Он смотрит на лицо ее.
«Ты надо мной властна, быть может,
И тело бедное мое
Безжалостный палач изгложет.
Но все ж я — прав. Что обещал,
Я, в эту ночь, исполнил честно:
С тобой я, как тебе известно,
До третьей стражи разделял
Твои, царица, вожделенья,
Как муж, я насыщал твой пыл…
Что ж! Я довольно в мире жил,
А ты — свершай свои решенья!»
И он, суровый сын войны,
Клеврет Великого Помпея,
Спокойным взором, не бледнея,
Встречает гневный взор жены.
Безмолвно, ярость подавляя,
Та бьет по меди молотком,
И звуки, стражу призывая,
Звеня, разносятся кругом.
Раскрыты завесы у двери.
Рабы, как на веревках звери,
Вступают в золотой покой;
И, грозной стражей окруженный,
В свое раздумье погруженный,
Проходит воин через строй.
Палач у входа. Но царица
Уже зовет своих рабынь;
Бежит невольниц вереница,
Неся одежды, пух простынь,
Фиалы тонких умащений…
Бледнеет тень ночных видений…
И вновь, прекрасна и ясна,
На пир готовится она.
5
Все ограниченней, короче
Остаток малый новой ночи,
И снова первый робкий луч
Уже скользит меж завес окон
И трогает, огнист и жгуч,
Царицы сине-черный локон.
Не сонных в спальне луч застал!
Чу! говор, вздохи, поцелуи,
И звонко в искристый фиал,
Опенены, сбегают струи.
«Клянуся Вакхом! я — не сыт!
Царица! Ты — Андиомена,
Любимица младых харит!
Мне кажется, морская пена
Доныне с ног твоих бежит.
Дай осушить ее устами!
Пред тем, как Феб, грозя лучами,
Блеснет-, — владычица любви,
Порыв жреца благослови!
Он здесь, коленопреклоненный,
Лобзает, весь горя огнем,
Святыни, спрятанные днем,
И каждый волос благовонный
На теле божеском твоем!»
Он — счастлив, он — безумен страстью,
Он медлить заклинает тьму,
Чтоб до конца упиться властью,
На срок дарованной ему;
Не признавая утомлений,
Творит хотенье из хотений;
Но, пресыщенно холодна,
На свет зари глядит она.
Довольно! Пробил час. Аврора
Открыла дверь. Помчится скоро
По крутизне лазури Феб.
Она встает…
Но он ослеп,
Он ничего не видит, кроме
Прекрасной груди, рук и плеч,
Он молит, в трепетной истоме,
Опять на мягкий пух прилечь,
О близкой смерти забывая.
Он обречен, но ласки ждет.
И, неохотно уступая,
Как милостыню подавая,
Царица снова предает
Свой стан объятьям распаленным;
Но, внемля клятвам исступленным,
Приемля зной палящих губ,
Она ненужных слов не тратит
И мыслит:
«Он — красив, не глуп,
Он жизнью эту ночь оплатит,
Но почему так чужд мне он?
Простой невольник и Критон,
Мудрец изнеженный, — меж ними
Какая разница? Своими
Лобзаньями, на краткий час,
Они развлечь умеют нас,
И только. В рощах Арголиды
Он воспринял завет Киприды;
Но той же страстью распалит
На рынке купленный Нумид!
Другие, нашими жрецами
Воспитанные в тайном храме,
Объятий странных новизной
На время изумить способны…
Но все — что листья, все — подобны,
Для ночи созданы одной!»
Очнулась, поднялась на ложе.
Он снова припадает к ней,
Он смотрит ей в глаза. Но строже,
Чем прежде, взгляд ее очей.
«Настало время расставанья».
«Еще, еще одно лобзанье!»
«Пора. Сияет в окна день».
«Нет! Погляди! Повсюду тень!»
«Конец!» Она встает и властно
Идет, чтоб дать условный знак,
Но он влечется сладострастно
За ней, целуя каждый шаг.
«Помедли! Видишь, я не трачу
Ни мига даром! Пью до дна
Блаженство! Я от счастья плачу,
Что ты была мне суждена.
Что Зевс, с его безмерной силой!
За весь Олимп я не отдам
Того, что есть, того, что было,
И не завидую богам!»
Одета белым покрывалом,
Она стоит перед кимвалом,
Не отвечает и стучит.
Все ближе по порфиру плит
Шаги. «Пока они у двери,
Хоть поцелуй, по крайней мере!»
Молчит. «Хоть раз позволь взглянуть
Мне — на божественную грудь!»
Вошли. Рабы теснятся строем,
Влекут его, но, обратясь,
Он, сладко плача и смеясь,
Любуется ночным покоем…
На двор мощеный за дворцом
Из храмины Критон выходит;
Палач с тяжелым топором
Его на лобный камень взводит.
Но юноша в последний раз
К рассвету простирает руки:
«Постой, палач! В свой смертный час,
За счастье принимая муки,
Хочу приветствовать зарю!
Тебя, о Феб, благодарю!
Ты вовремя на колеснице
Надел лучистый ореол!
Кто эту ночь, как я, провел,
Вдвоем с божественной царицей,
Не может и не должен жить:
Мне больше некого любить!
Пока ты светить в этом мире,
Гласи сияньем, что нельзя
Блаженней быть, чем ныне я!»
И наклонился он к секире.
Палач ударил раз и два;
Упала наземь голова,
И струи алые помчались,
И кровью площадь залита…
Но все ж, казалось, улыбались
У мертвой головы — уста.
6
И третья ночь прошла. Он спит,
Ребенок, страстью истомленный.
Царица, с думой потаенной,
Печально на него глядит.
Так молод! Были так стыдливы
Его невольные порывы,
Так робки просьбы детских глаз!
В ответ на хитрые соблазны,
Он лепет повторял бессвязный,
И вспыхивал, и быстро гас.
Напрасно ласково учила
Она его игре страстей:
Его неопытная сила
Чуждалась пламенных затей.
Он плакал в буйстве наслаждений,
Страшась изысканных забав,
Потом, обняв ее колени,
Молчал, к возлюбленной припав,
И долго, счастьем умиленный,
Смотрел во взор ее бездонный.
Он спит. Но сонные уста
Так чисты! Так ресницы милы!
Ужели эта красота
Сегодня станет прах могилы?
Какая страшная мечта!
Царица вздрогнула невольно,
Как будто вдруг уязвлена,
Ей жутко, ей почти что больно.
Над спящим тихо склонена,
Касаньем ласковым она
Ребенка будит осторожно:
«Проснись, мой мальчик, рассвело!»
И на прекрасное чело
Кладет свой поцелуй тревожно.
Он пробуждается. Уже?
Все вспомнил. Так: чертог, царица,
И в окна бьющая денница,
И он стоит на рубеже…
Воспоминанья жгучей ласки
На миг лицо зажгли; потом
С его ланит сбежали краски:
Он бледен, страшен он лицом.
И сердце царственной блудницы
Внезапной болью стеснено,
И чувства, спавшие давно,
Оживлены в душе царицы,
И двое на лучи денницы,
Равно дрожа, глядят в окно.
И, голос понижая, словно
Кого-то разбудить страшась,
Лепечет быстро и любовно
Царица, к юноше склонясь:
«Мой мальчик! встань, иди за мною!
Я тайный путь тебе открою!
Хочу спасти тебя! Беги!
Есть дверь за северной колонной.
Проход выводит потаенный
У Нила, в поле… Чу! шаги!
Нельзя нам медлить. Я не властна
Нарушить грозный свой обет.
Час минет, — и спасенья нет.
Беги!»
Он смотрит. Та — прекрасна;
Божественны ее черты.
И он с волненьем ей: «А ты?»
«Что я? Беги, пока есть время!»
«Жить без тебя? Какое бремя!
И дни и годы пустоты!
Беги со мной!» — «Но ты безумен!
Твой зов нелеп и неразумен.
Послушай: дорог каждый миг!
Я всем скажу, что задремала,
Не догадалась, не слыхала,
Что ты в подземный ход проник…»
Она зовет, почти что молит,
Она его войти неволит
В дверь отворенную. Но он,
И слепо счастлив и смущен,
Противится, твердя упорно:
«Беги со мной!» Пред ними ход,
Ведущий вглубь, угрюмый, черный;
Она туда его влечет:
«Спеши! Иль ты себя погубишь!»
А он: «Нет, ты меня не любишь!»
«Ты позабыл, кто ты, кто я!
Есть у тебя отец, родные.
Живи для них! Сии края
Покинув, удались в чужие…»
И, новой грусти не тая,
Он возражает ей упрямо:
«Не любишь ты! Скажи мне прямо!
И я умру рабом твоим.
Но если… если я любим!
Какое дивное блаженство!
Любовь нам возвратит равенство;
Как боги счастливы, вдвоем
В другие страны мы уйдем!
Иль дорожишь ты багряницей?
Тебя пленяет пышный прах?
Ты будешь для меня царицей
В моей душе, не на словах!
Что знаешь ты? Притворство лести,
Обманы! Я, и день и ночь,
С тобой единой буду вместе,
Не отходя ни шагу прочь!
Подумай: видеть, просыпаясь,
Черты любимого лица
И жить вдвоем, не расставаясь,
До вожделенного конца!»
Что может отвечать царица
На детский, на бессвязный бред?
А за стеной шумит столица…
Он — обречен; спасенья нет.
Но юноша, не понимая,
Что значит складка роковая
На лбу царицы, шепчет вновь:
«Бежим! Нас позвала любовь!
Я понял: это — воля Рока!
Меня привел он издалека,
Чтоб вывести тебя!» И вот
Мечтатель, взорами сверкая,
Спешит, царицу побуждая
Сойти за ним в подземный ход.
Но та безумца отстранила.
Ее чело пробороздило
Раздумье тайное. Потом,
Скользнув к своей постели гибко,
Она, с обманчивой улыбкой,
Наполнила бокал вином.
«Ты — прав! Мне вдруг понятно стало,
Что я тебя лишь ожидала!
Так! Мы бежим из этих зал!
Прочь, злато, ткани и каменья!
Но, уходя, в знак единенья,
Прощальный выпьем мы фиал!»
Он кубок пьет. Она руками
Его любовно обвила
И снова нежными устами
Коснулась детского чела.
Улыбкой неземного счастья
Он отвечает, будто вновь
Дрожит на ложе сладострастья…
Но с алых губ сбегает кровь,
Взор потухает отененный,
И все лицо покрыто тьмой…
Короткий вздох, — и труп немой
Лежит пред северной колонной.
Закрыв ненужную теперь
Над лестницей подземной дверь,
Царица долго любовалась,
Склонясь к недвижному лицу,
И долго странно улыбалась…
И вдруг далеко по дворцу
Пронесся медный звон кимвала.
Заслыша им знакомый звон,
Бегут рабы со всех сторон
И раскрывают опахала;
Рабыни выбрали давно
Наряд для утреннего часа;
Уже разубрана терраса,
Над ней алеет полотно…
Все приготовлено для пира:
Сегодня во дворце своем,
За пышно убранным столом,
Царица встретит триумвира.
И вот идет толпа гостей;
Сверкают шлемы, блещут брони;
И, посреди своих друзей,
Привыкший удивлять царей,
К царице близится Антоний.
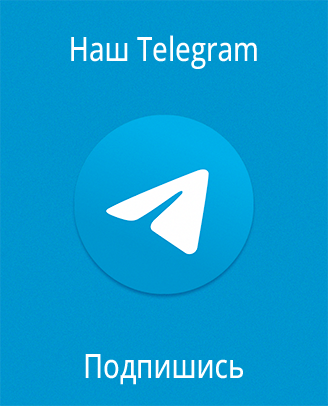
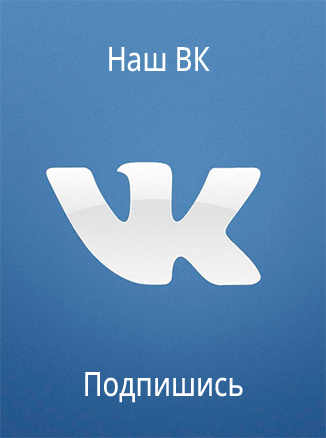
Нет комментариев